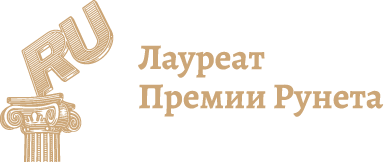Петр Фоменко: «Все мы в молодости были осквернителями классики»

Издательство «Рипол классик» выпустило книгу «Петр Фоменко. Энергия заблуждения». Она не приурочена к какой-то дате, да и не нужен внешний повод, чтобы рассказывать о человеке особенном, каких, наверное, господь выдает поштучно – по одному на страну и век. Петр Наумович Фоменко, ушедший в августе 2012-го, режиссер ренессансного мироощущения, создатель Мастерской и галереи удивительных, изумляющих спектаклей, без которых теперь уже немыслимо театральное искусство… Все-все, больше ни слова. Петр Наумович не терпел высокого тона, пишет автор книги театровед Наталия Колесова. «Энергия заблуждения», состоящая из записок и интервью самого режиссера, а также из рассказов о Мастере его актеров-«фоменок», равновеликих коллег и знаменитых учеников, замечательна своей наполненностью поразительно интересными вещами. Прочтите ее. А пока что мы публикуем небольшие фрагменты оттуда.
Истории, записанные со слов Петра Фоменко
100 рублей у ресторана «Арагви»
...Это повторялось много раз, мы с Сашей Косолаповым отшлифовали эту сцену и разыгрывали ее, как по нотам. Я рыдал у дерева — неудержимо и достоверно, а Саша выжидал у «Арагви» очередную «жертву». Обычно «он» появлялся из дверей ресторана после обильного ужина с эффектной бабой — вальяжный мужик, явно стремившийся произвести эффектное впечатление на свою спутницу. (Тут нам нужно было быть тонкими психологами.) Они намеревались отправиться продолжить вечер... И в это время
«вступали» мы. Под мои рыдания Саша прочувствовано произносил: «Извините, нам нужна ваша помощь. У моего друга отобрали все документы — паспорт, военный билет. За возвращение милиция требует огромную сумму... 100 рублей!» (По тем временам это были колоссальные деньги, но мы понимали — надо «бить» наверняка.) Я: «Саша, не надо, не унижайся! Посмотри — с какой он женщиной!..» В мужике тем временем боролись жадность вперемешку с сомнениями и желание выглядеть шикарно-благородно в глазах своей спутницы. И это желание побеждало. Часто мы получали свои деньги и сразу отправлялись в «коктейль-холл», где отлично проводили время, употребляя коктейли (они тогда стоили 10—12 рублей). И, к счастью, ни разу своих «жертв» там не встретили...
Яйца лошади Юрия Долгорукого
Однажды утром, возвращаясь с какой-то гулянки, мы увидели, что к памятнику Юрию Долгорукому прислонена лестница. Этим нельзя было не воспользоваться. Тогда мы надули имевшиеся у нас с собой воздушные шарики, влезли на пьедестал и привязали к лошади сзади. А лестницу спрятали в арке Института марксизма-ленинизма, расположенного за статуей и сквериком. Там же скрылись сами и наблюдали. Утренний милицейский патруль в ужасе и возмущении пытался сорвать шарики с лошади, но не
допрыгнул. А лестницы-то не было! Тогда они стали их расстреливать из табельного оружия. И шарики печально повисли тряпочками, что было еще смешнее.
«Пробы воздуха» на улице Горького
В студенческие годы в аптеке на улице Горького мы покупали спиртовую настойку ромашки, с трех-четырех пузырьков которой наступала полная эйфория. (Еще мы выпивали в «Магазине шампанских вин» на углу.) Мы хотели сдать пузырьки по 3 копейки, чтобы выручить немного средств. Но, придя в аптеку, обнаружили там целую корзину, полную таких пузырьков. Мы ее взяли и вышли на улицу Горького напротив Центрального телеграфа. Дальше картина была такая: мы останавливали машину, Саша — высокий, красивый — делал эффектный жест, а я ставил пузырек на мостовую. Следующий шаг — другой пузырек. Водители немногочисленных автомобилей в недоумении останавливались. Мы объявляли: «Берем пробы воздуха!» Люди относились с «пониманием». Это, наверное, была первая «пробка» на Тверской, тогда улице Горького. Понятно, что при нынешнем движении нам бы, наверное, не удалось проделать наш фокус. Так мы дошли до разделительной полосы, повернулись к встречному потоку и продолжили по тому же сценарию: жест — остановка — пузырек. Когда подъехала милиция, мы как раз закончили на противоположной стороне от Камергерского рядом с Центральным телеграфом и, не дожидаясь сотрудников органов правопорядка, которые бежали к нам по подземному переходу, рванули вверх по Тверской, к Брюсову переулку. Юркнули внутрь церкви Воскресения и там, в приделе, застыли в полумраке под иконой с Богоматерью.
Записки на манжетах
О Михаиле Светлове
Мы пришли к Светлову с бутылкой водки и закуской. Пытались почистить селедку, на что Светлов заявил: «Молодые люди, селедку надо есть с газэты!» Выходя из ЦДЛ, сильно выпивший Михаил Аркадьевич задавал сам себе вопрос: «Что нужно еврею на Руси?» И сам себе отвечал: «Такси!»
О студенческих годах.
Я устроил себе запой, не взаправдашний, а показушный. Мне казалось, алкоголизм — это признак таланта. Казалось, что пить надо так, чтобы говорили: «Что же он делает, он же губит свое дарование!»
О «великой силе искусства»
Летом в Собиновском переулке рядом с театром Маяковского. Из открытых окон репетиционного зала раздается крик А. А. Гончарова (как известно, он часто кричал на репетициях): «Почему никто не действует? Что у вас по действию? Перспективу держите!» Алкаш-провинциал, гулявший по центру, остановился, прислушался и сочувственно среагировал: «Как мужик-то, б...дь, страдает! А ведь правильно мужик кричит! Никто, б...дь, ни хера не действует!» И широким жестом показал поверх крыш в сторону Манежа и Кремля.
О превратностях женских судеб
…видел в Питере. Идет женщина с большой авоськой яиц, штук тридцать, под Пасху, наверное. Она обгоняет пару, идущую перед ней, и вдруг замечает, что за мужик идет с чужой бабой — ее мужик! Он, как бы «не узнав», хотел было ее обойти. А она приблизилась и этой авоськой наотмашь — раз, другой, третий: «На! Сволочь, б...дь, подонок!»
О себе
Из общения с охраной «Мастерской» Петр Наумович порой выносил яркие жизненные наблюдения. Его поражало, как сотрудники охраны «пасут» каждый его шаг и что ему совершенно невозможно незамеченным ни войти, ни выйти из театра. Спрашивал: «Ты знаешь, как они обо мне передают по рациям? „Первый второму: объект вышел“. Знаешь, что они мне докладывают? „Разрешите доложить: за ночь никаких происшествий
не произошло. Дежурный Будкин“». И в особенности его веселило, что при встрече начальник охраны вопрошал: «Какие будут распоряжения? Всем постам отключить рации, я занят!»
Об элегантности
Надел охренительные замшевые ботинки с длинными носами, черный костюм лакейский, с атласными лацканами, и носки в черно-серую полоску.
Об актерах-детях
Петр Наумович часто говорил с наигранной сердитостью: «Так надоели дети — они вырастают, негодяи! У меня Петя Ростов (уже третий) стал выше всех в спектакле!» (Это имелся в виду юный музыкант Саша Мичков, ныне полноправный актер труппы.)
О детстве
Во время бомбежки в войну взрывной волной меня выбросило из окна на сугроб (была контузия). Помню, рядом — получеловек с оторванными ногами и половиной туловища хрипел: «Мальчик, добей!»
Афоризмы от Фоменко
Лучше, когда приходит на язык, а не на ум. Это я вам говорю, как Наумыч.
Гений проявляется в самоограничении - Не по таланту пьешь.
Один актер опоздал на свой выход на сцену, подвел товарищей. В объяснительной записке он написал: «По пути на сцену я зашел в туалет и там потерял ощущение времени».
О преемниках и возрасте
Это довольно опасно — позаботиться о будущем после себя.
Может ли в человеке быть такой контрапункт: выше пояса — старец, а ниже — полный жизни юноша, готовый к восторгам? (Это было сказано о Фаусте.)
…как грустно, когда знаешь, что нужно делать, и понимаешь, что это уже непосильно.
Фрагменты интервью с Фоменко
Мне кажется, возраст — это вся жизнь. Кому сколько отпущено — неизвестно. Мне кажется, нет единого взгляда на жизнь, опыт. У некоторых расцвет — это начало жизни, у некоторых — середина, у некоторых — закат, зрелость. Если говорить об этом занятии — режиссуре (я не назову его профессией), — я прожил жизнь до начала жизни. Это были странные времена — радостные, безнадежные, смутные... Черт его знает, мне кажется, это — единая жизнь. Как она складывается у режиссера — у каждого по-своему. Каждый будет исходить из своей судьбы, из связи с теми, кто сыграл роль в его жизни. У меня старость совпала с возможностью делать то, что дорого. С одной стороны — повезло. С другой стороны, это ужасно. Сейчас, когда уже нет сил, когда появился театр-дом, это стало тревогой, испытанием, горечью. «О, если бы молодость знала, о, если бы старость могла!»
Художество — грешное занятие, и строительный материал в этом деле — своя судьба. Все мы в молодости либо были осквернителями классики, либо занимались новациями вопреки традициям, но все-таки мы исповедовали режиссуру корня. Корневая система очень важна, мы утрачиваем ее — корневую систему театра. Кроны бывают порой такими раскидистыми, а вот корни... Поэтому сейчас режиссеры избегают заводить свой театр, самые одаренные стремятся непрерывно перемещаться: Россия — Япония — Америка, сегодня — опера, завтра — драма. И с одной стороны, это прекрасно.
У нас была гильдия режиссеров, но это дохлый номер, режиссеры — одинокие волки.
Много говорят о школе. А вообще театр наследовать никто не может. Театр по наследству не передается. Будь это великий Художественный театр или какой-то другой. После ухода лидера возникает музейный период, но приходит новый человек — и происходит либо чудо, либо беда.
Природа режиссуры — разная, поэтому разный возраст по-разному реагирует на смену вех. Суть в том, что все принято мерить веками: новый век — новые ценности. Но разве ценности меняются? Мне повезло, что я пережил многих достойных людей своего поколения, да и недругов в режиссуре, которые в свое время имели право на большее, чем остальные. Но даже к врагам надо относиться бережно. Я имею право так говорить — я ведь один из самых старых в этом деле, если говорить о Москве и о Питере.
…для меня компьютерный век — великое бедствие. На мой взгляд, чем больше сейчас технологий, тем хуже. Кибернетический театр, оснащенный новейшими достижениями, компьютеризация жизни не только в прямом, но и в образном смысле — великая беда. Я избавился от мобильного телефона — и много выиграл с одной стороны. Но вот у меня дома сломался на двое суток городской телефон — и пришлось бежать в театр, чтобы просто позвонить по неотложным делам — в том числе в деревню моей жене Майе Андреевне, чтобы сказать, что жив и здоров.
…Конец театральной эпохи наступает очень часто. Для вас он наступил сейчас, а для тех, кто прожил более долгую жизнь, он наступал уже неоднократно. «Пушки к бою едут задом», — это сказано не мной... Мне всегда казалось, что вперед надо двигаться, пятясь в сторону цели и глядя назад.
Я застал конец театральной эпохи, когда Станиславский стал единой, как и социализм, театральной системой. Однопартийной системой в театре. Было методологически преступно искать в театре интонацию. У нашего поколения Станиславский вызывал неосознанный и несформулированный внутренний протест…
Почему мало театральных, да и не только театральных потрясений? Да потому что мы заняты собой. Сейчас в Москве очень интересная жизнь — божественные выставки, новые музеи, видимо, центр потрясений переместился. А может быть, это для нас нет потрясений, а для тех, кто только открывает для себя театр, приходит в него, они существуют. Пойдите в «Театр.doc». Ведь все равно не пойдете…
Среди молодых всегда есть очень интересные индивидуальности. И никакая утрата мозгов и таланта не объяснит глобальных процессов, происходящих в нас самих. И потом проблема: театр не может жить без успеха, а успех так разрушителен!
Вы задаете такие краеугольные вопросы, на которые я еще не ответил себе сам. На них надо отвечать в конце жизни или в жанре передачи «Школа злословия». Недавно я как раз смотрел беседу с Кириллом Серебренниковым — замечательная фурия Татьяна Толстая и Дуня Смирнова пытались пытать его (извините за тавтологию). Фантасмагорически смешно. Это надо видеть! Смешно, горестно, а потом возникла какая-то ярость. Похоже, Кирилл знает ответ и на этот вопрос. Не знаю, есть ли у него корни, но он свободен, и в нем есть генетическая оснащенность.
Поступок — это проблема выбора. Был же раньше у офицеров суд чести. А что касается размененности таланта, знаете, бывает, что талантливые люди очень стремятся, например, в министры, в депутаты... Каждый решает сам. Талант заставляет тебя «умыкаться» от всего, но в театре невозможно скрыться — от соблазнов, от востребованностей. Талант — это дикое сомнение и тоска по совершенству. Это мука, которую испытали те, кого уже нет. Мне кажется, разменять, растратить, изменить этому дарованию невозможно. В такие моменты возвращаемся к Пушкину, написавшему: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». А сколько злодейств у всех талантливых людей? И у Пушкина они тоже были. Мне кажется, гений и злодейство совместимы. Абсолютно! А иногда кажется, гений без злодейства вообще невозможен. Гений и злодейство неизбежны. Ну что делать, если кто-то разменял свой талант. Он сделал выбор.
Моя любимая пьеса, которую я поставил в начале своей деятельности и за нее получил первый удар, и столько закрытых спектаклей — «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина в театре Маяковского, у Охлопкова. Он был талантливейший человек, изумительный артист, но тогда уже находился в состоянии «разрушения». Меня называл «парень в зеленой рубашке»… В «Смерти Тарелкина» мы не осквернили классику, хотя тогда за всякий новый взгляд инкриминировалось осквернение. Но такие спектакли были опасны для жизни. Это был восторг! Вот она — цена противостояния. Театр все равно существует вопреки.
Трагедию сейчас ставить нельзя, хотя все говорят, что высшее мерило театра — постижение трагизма. Сегодня залог трагедии — смех, который есть аванс доверия. Трагедии в чистом виде в современном театре не может быть. Нужна ирония, самоирония, нет чистоты жанра.
У меня есть одна мечта, боюсь, уже неосуществимая. Хочу научиться водить машину, маленькую, «Оку», и ездить на ней в глушь… Мне очень нравится смотреть деревни, которых уже нет. В глуши между Тверью и Бежецком есть карьер, где бьют ключи, а вокруг — просторы. Если бы кто-то захотел заняться этим местом. Осталось немного — сделать озеро, провести дороги и сотворить оазис. Если крестьянство невозвратимо, то фермерам было бы раздолье. Но все стремятся строить в Москве и Питере. А столько земли пропадает в провинции! Даже леса стали болеть, потому что они не намолены.